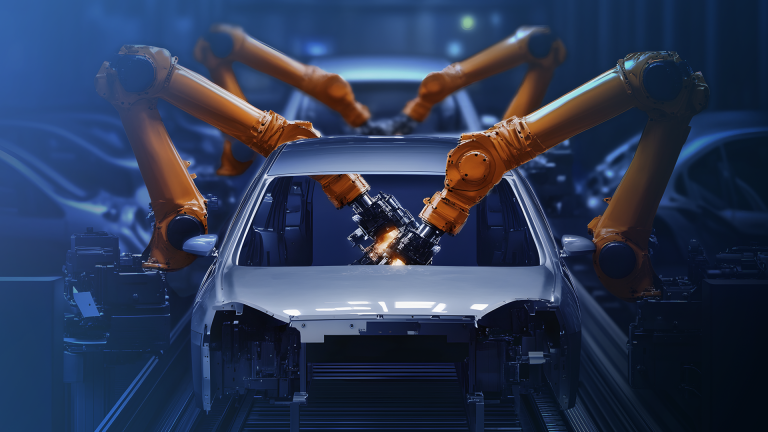Роботы и аддитивные технологии: как внедряют новые решения в нефтегазовой отрасли
с помощью нейросети
Как адаптировать новые технологии к условиям российского производства? И какой вклад инженера в этот процесс? Как меняется его роль в эпоху технологического рывка? Эти и другие вопросы мы обсудили с экспертом в сфере промышленных инноваций, автором концепции роботизации нефтегазовой отрасли Александром Паршиковым. Рассказываем, как модернизируется российский нефтегаз, каким образом аддитивные технологии помогают в импортозамещении и как soft skills становятся знаком отличия профессионала в быстро меняющемся инженерном мире.
- какими качествами должен обладать инженер для успешного карьерного роста
- зачем на нефтегазовых месторождениях 3D-принтеры
- как устроены офисные роботы-дезинфекторы
- нужна ли промышленному роботу бипедальная локомоция
Моя специализация — инженер-радиоэлектронщик аэрокосмического приборостроения. Робототехнике я никогда не учился — закончил Самарский аэрокосмический университет, после чего пошел в тяжелое машиностроение. Занимался, в основном, рельсовым транспортом. Радиоэлектронщикам в «нулевые» платили крайне мало, поэтому я изначально искал работу не по специальности.
В 2006 году начал работать в российском инженерном центре американской компании General Electric, где модернизировали старые советские локомотивы. Там я успел поработать над разными крупными проектами в Якутии, Украине, Польше, на разработке проекта для Прибалтики. Позже занимался сопутствующим оборудованием для железной дороги. Через несколько лет дорос до производственного руководителя в международных компаниях Alstom и Skoda Transportation. Это была хорошая школа с передовыми практиками цифровизации производства и внедрением современных технологий и процессов.
В «Газпром нефти» мне предложили заняться техническим направлением, которое включало не только робототехнику, но также 3D-печать и создание корпоративных центров компетенций. Это был настоящий вызов, который я с большим интересом принял.
Первостепенной задачей стало выявление «узких мест» в технологических процессах. Такие «бутылочные горлышки» не только замедляют процесс на конкретных предприятиях, но и снижают общую эффективность компании. Однако выявить их — лишь полдела. Другая важная часть работы — подобрать технологии для их устранения и продумать техническое решение так, чтобы оно было максимально адаптировано к реальным условиям. Без углубления в робототехнику здесь было не обойтись.
Один из самых масштабных — автономная строительная площадка. Ее элементом стал беспилотный бульдозер, который мы уже протестировали на месторождении. Сам по себе бульдозер — это лишь инструмент. Главное — создать инфраструктуру, чтобы он мог эффективно работать в связке с другой техникой. Это включает навигацию, диспетчеризацию, системы связи и кибербезопасности. Все элементы должны быть интегрированы в единую систему и соответствовать корпоративным стандартам. На этом пути мы добились определенных успехов, но это только начало большой работы.
Это хороший пример антикризисных разработок. Автономный робот, которого мы создали буквально за три месяца, и свою функцию он выполнял исправно: обеззараживал помещения с помощью ультрафиолетового света. Мы решили проблему безопасности ультрафиолетовой обработки, поместив лампы внутрь корпуса. Воздух прогонялся через УФ-колбу, дезинфицировался и дополнительно снижал риск заражения за счет разряжения: разлет воздушно-капельной смеси уменьшался.
Это был не просто утилитарный робот, а многоуровневое инженерное решение. В процессе дальнейшей доработки мы учли множество факторов: доступность компонентов, технологическую архитектуру, санитарные требования, компоновку для большей маневренности и зоны охвата. Это задача уже другого уровня сложности и она заняла в разы больше времени.
Когда эпидемия пошла на спад, спрос на такие устройства ожидаемо снизился. Предвидя это, мы сделали проект модульным для расширения его применимости в сценариях, не связанных с дезинфекцией. Теперь его можно адаптировать под другие задачи. Например, использовать как офисного помощника.
Я вижу в них большой потенциал. Мы использовали аддитивные технологии для ремонта и изготовления деталей, которые сложно, долго или слишком дорого закупать у производителя. В 2019 году мы напечатали крыльчатку технологического насоса для нашего завода, которая до сих пор круглосуточно работает на предприятии.
Нашей задачей было продемонстрировать возможности аддитивных технологий и создать условия для их широкого внедрения.
Нам заказывали запчасти для танкеров и многое другое. Спрос обеспечивался разными факторами. Где-то это была экономика, где-то возможность решить задачу, которая не решалась традиционным производством, где-то сроки поставки были критичны. Одним из больших успехов я считаю наши работы по реинжинирингу деталей иностранных газотурбинных установок — перепроектированию для устранения эксплуатационных проблем.
При этом важно понимать, что аддитивные технологии — это не конкурент традиционному производству, а дополнительные производственные возможности. Поэтому мы активно работали с Росатомом и Инжиниринговым центром «Кронштадт», который сейчас занимается импортозамещением различных деталей, узлов и оборудования.
Закономерный этап развития, к которому мы стремились, уже начался — «Газпром нефть» уже размещает 3D-принтеры прямо на месторождениях. Мы обучали специалистов работать с ними и восполнять свои дефициты по запчастям. Такой подход позволяет избежать лишней бумажной волокиты и согласований. Проблема решается быстрее и меньшими силами.
Основной локомотив — конвейерное производство и ставшие уже классическими манипуляторы. Но хватает и примеров внедрения сервисной робототехники. Скажем, робот-химик. Это устройство автоматизирует рутинные лабораторные операции: загрузку, выгрузку, работу с реагентами. Оно используется в лабораториях на месторождениях, повышая точность и безопасность операций.
Еще один пример — автономные грузовые перевозки. На трассе М11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, уже работают машины, которые перевозят грузы без участия водителя. Над реализацией этого проекта работают сразу несколько компаний, включая Автотех, Камаз.
Мы движемся в правильном направлении. Конечно, потеря двух десятилетий в конце прошлого века заметно отразилась на отрасли, но сегодня технологии позволяют быстрее наверстывать упущенное. В России это можно наблюдать на примере того, как активно развивается складская робототехника. До Amazon, которая применяет тысячи роботов, нам пока далеко, но лидеры рынка начинают осваивать аналогичные модели.
При этом проблемы остаются, особенно в недетерминированных средах, где требуется высокая точность и адаптивность. Но это общемировые вызовы, не только российские. Много сложностей и там, где возникает необходимость подготовки роботов к техпроцессам, изначально рассчитанным на человека. Тем не менее, потенциал роботизации в промышленности огромен.
Мировые лидеры в сфере роботизации нефтегазовой отрасли
На мой взгляд, сейчас это выглядит скорее нишевым решением. Основная сложность здесь — требовательность технологий к вычислительным ресурсам. Например, бипедальная локомоция — сложнейший процесс. Мы не замечаем, сколько ресурсов тратит наш мозг на поддержание равновесия при перемещении. Насколько нужно промышленным роботам перемещаться на двух ногах? Я считаю, что задачи следует решать изменением техпроцесса. Хотя ниша для применения человекоподобных роботов найдется. В промышленности жизненный цикл оборудования может достигать столетия, и более 90% производств сейчас построены для работы и обслуживания человеком.
Роботы-гуманоиды могут найти применение там, где требуется гибкость, но пока такие проекты часто упираются в экономику. На сборке авто проще установить не двурукого андроида, а оптимальную конфигурацию роботов-манипуляторов. Есть задачи, которые требуют трех или четырех манипуляторов.
В итоге решения принимаются, исходя из баланса между технологической сложностью и экономической выгодой. Сейчас большинство промышленных роботов разрабатывается под определенные задачи, а не для универсального применения.
Материаловедение — это вторичное направление, которое развивается под запросы рынка. Россия исторически сильна в производстве титановых и алюминиевых сплавов, которые востребованы в авиации и машиностроении, однако внедрение новых материалов идет медленно, если нет массового спроса. Сейчас большая часть разработок направлена на оборонную промышленность, что характерно для многих стран, не только России. В будущем все будет зависеть от того, как продолжит развиваться рынок и появится ли интерес к новым материалам в гражданском секторе.
Помимо нефтегазовой отрасли, это авиация и крупное машиностроение. Эти сегменты имеют высокий потенциал для внедрения робототехники, аддитивных технологий и автоматизации. Также перспективным остается логистический сектор: складские системы и е-коммерция продолжают развиваться.
5 ключевых трендов мирового нефтегаза в области роботизации
- Оптимизация общих затрат на нефтегазовые проекты, в том числе за счет цифровизации и роботизации.
- Применение интернета вещей (IoT) и углубленной аналитики для мониторинга состояния оборудования в реальном времени.
- Разработка и применение подводных аппаратов и наземных роботов для автономного выполнения сложных операций в труднодоступных условиях.
- Внедрение автоматических роботизированных систем для выполнения рутинных и опасных задач, таких как инспекция оборудования, бурение и обслуживание инфраструктуры.
- Повестка устойчивого развития. Использование роботов для контроля за воздействием на окружающую среду, минимизация вмешательства человека в процессы разведки и добычи.
Это распространенное заблуждение, что автоматизация сразу решит кадровый кризис. На самом деле автоматизация сама по себе требует большого числа специалистов: от разработчиков и проектировщиков до тех, кто будет заниматься внедрением и обслуживанием технологий. Прибавьте к этому зависимость от наличия оборудования и компонентов. Помню, что в пиковый период развития дата-центров время ожидания процессоров доходило до года. Иными словами, автоматизация может сократить потребность в определенных категориях работников, но глобальной безработицы можно не бояться — полностью заменить людей невозможно.
Важно совмещать hard skills и soft skills. Технические навыки, конечно, ключевые, но умение работать с информацией, аналитическое мышление и коммуникации играют очень важную роль. В нашей команде ценились не столько дипломы и победы в кейс-чемпионатах, сколько умение быстро разобраться в задаче, предложить решение и работать сообща. Это тренд. Даже самые крутые технические специалисты иногда уступают позиции тем, кто лучше понимает, как работать в команде. Важно уметь не только решать задачи, но и правильно доносить свои идеи. Хотя, конечно, техническая база всегда остается основой.
Soft skills необходимы каждому, кто хочет расти. В ведущих компаниях сейчас уделяется огромное внимание тому, насколько человек может вписаться в коллектив и эффективно взаимодействовать с другими. Это особенно важно в технологической среде, где успех зависит от множества факторов и мультидисциплинарность выходит на первый план. Успех — это всегда командная работа, где важна способность находить общий язык, понимать взаимозависимость задач и адаптироваться к быстро меняющимся условиям.
Прогнозировать развитие технологий сложно, но есть общие тренды. Data Science и ИИ — это бездонные колодцы, куда будут уходить ресурсы в ближайшие годы. Конструкторы и специалисты по технологическим процессам тоже будут очень востребованы. Хотя бы потому, что в условиях дефицита компонентов возникает необходимость перепроектирования и адаптации оборудования. Профессии, связанные с программированием на языке С, ещё недавно считались не слишком престижными и оплачиваемыми, а сегодня зарплаты у специалистов в этой области очень достойные.
Мне нравится полный цикл взаимодействия с технологиями: от анализа бизнес-проблемы до разработки решения и его внедрения в производство. Важно видеть результат своей работы и ощущать вклад в развитие компании. На мой взгляд, проекты полного цикла одинаково интересны во всех отраслях, будь то промышленность, IT или логистика.